


Сомали Мам
Шепот ужаса
«Только по самым приблизительным подсчетам, число проституток и секс-рабынь в Камбодже не меньше 40–50 тысяч. Таким образом, одна из сорока рождающихся в стране девочек продается в сексуальное рабство».
В 1986-м, когда меня продали в публичный дом, мне было около шестнадцати. В наше время в Камбодже проституцией занимаются девочки куда более юного возраста. В каждом большом городе продаются девственницы; иной раз предлагают девочек шести или даже пяти лет.
Ежегодно в Камбодже, да и по всей Юго-Восточной Азии, десятки тысяч девочек принуждают заниматься проституцией. Их избивают, насилуют; нередко это длится годами. Многие при этом погибают.
Я посвящаю эту книгу тысячам маленьких девочек, которых каждый год продают в публичные дома.
Глава 1. Лес
Меня зовут Сомали. По крайней мере, такое имя я ношу сейчас. Как и у всех камбоджийцев, имен у меня было несколько. По нашим обычаям, человек меняет имя, когда начинается новый этап его жизни, — он будто рождается заново. В раннем детстве меня звали Иа, а иногда Нон, что значит «младшая». Когда старик увел меня из леса, я звалась Айя, а когда мы переходили границу, он сообщил таможеннику, что мое имя Вирийя. Не знаю, почему именно это. Я привыкла, что меня как только не называли, часто бросая в мой адрес оскорбления. Потом, через несколько лет, один добрый человек, назвавшийся моим дядей, дал мне имя Сомали — «ожерелье из цветов, потерянное в девственном лесу». Имя мне понравилось, казалось, такая я на самом деле и есть. Когда же у меня появилась возможность выбрать имя самой, я решила оставить это.
Я никогда не узнаю, как меня называли родители. От них не осталось ничего, даже воспоминаний. Приемный отец как-то дал мне совет, прозвучавший в истинно кхмерском духе: «Не стоит причинять себе боль, копаясь в прошлом». Думаю, он знает о том, что произошло в действительности, но со мной об этом предпочитает не говорить. Пришлось собирать сведения о родителях по крупицам, опираясь на свои обрывочные воспоминания и узнавая подробности о тех событиях, которые происходили в то время в стране.
Раннее детство я провела на северо-востоке Камбоджи, среди холмов, окруженных саваннами и лесами, неподалеку от равнин Вьетнама. Даже сейчас, когда случается оказаться в лесу, я чувствую себя там как дома. Узнаю растения. Интуиция подсказывает мне, что съедобно, а что ядовито. Помню водопады. Этот звук все еще стоит у меня в ушах. Детьми мы купались под низвергающимися сверху струями и соревновались, кто дольше продержится под водой. Помню, как пахнет девственная чаща. Воспоминания об этом сохранились в глубинной памяти.
В деревне Боусра, где я родилась, жили пнонги. Это древнее горное племя, оно имеет мало общего с кхмерами, живущими в основном в долинах Камбоджи. От матери я унаследовала темную кожу. Для камбоджийцев мы слишком черные, а потому в их глазах некрасивые. На кхмерском языке слово «пнонг» означает «дикий». В Юго-Восточной Азии большое значение придается цвету кожи: чем она бледнее, чем ближе к «лунному», тем лучше. Полная белокожая женщина считается самой красивой и желанной. Я же была смуглой и тощей — словом, уродиной.
Еще в раннем детстве родители оставили меня на попечении бабушки по материнской линии. Может, они отправились на поиски лучшей жизни, а может, были вынуждены уйти. Я родилась в 1970 или 1971 году, в то самое время, когда беспорядки в Камбодже только начались. Мне не исполнилось еще и пяти, когда американцы накрыли страну ковровыми бомбардировками. Ну а потом в Камбодже установился кровавый режим «красных кхмеров» под предводительством Пол Пота. За четыре года режима, с 1975 по 1979-й, погиб каждый пятый камбоджиец. Людей расстреливали, морили голодом или изнуряли непосильным трудом. Многих закрутило в водовороте событий, вырвав из родных деревень, разлучив с семьями, — люди исчезали бесследно. Других переселяли в трудовые лагеря, где использовался рабский труд, или же заставляли воевать на стороне полпотовского режима. Существует множество причин, по которым мои родители могли уйти из леса.
Мне же хочется думать, что родители и бабушка всегда в первую очередь думали обо мне. У пнонгов национальность определяется по материнской линии. Отец был из кхмеров, но, несмотря на это, после ухода родителей моим родным домом стало местечко Мондулкири. Через некоторое время исчезла и бабушка. Я была тогда еще слишком мала, чтобы ее образ сохранился в моей памяти. Испокон веков люди из горного племени чуть что сразу срывались с насиженного места. В таких случаях объяснений от человека никто не требовал, а уж в те неспокойные годы и подавно. Поэтому когда бабушка ушла, никто не мог сказать, куда она направилась. Не думаю, чтобы бабушка меня бросила, скорее всего она решила, что в деревне, среди своих, я буду в большей безопасности. Разве могла она знать, что лес недолго будет моим домом?!
В нашей деревеньке было всего-то десятка два хижин, сгрудившихся на полянке посреди леса. Приземистые, крытые соломой домики были построены из бамбука. Чаще всего в одной большой хижине жило несколько семей. Никакой перегородки между общим спальным местом и кухней не было. Другие семьи жили отдельно. У меня не было родителей, не было семьи, и я спала одна, в гамаке. Я и в самом деле росла какой-то дикаркой. Ночевала то тут то там, ела где придется.
Мой дом был везде и в то же время нигде. Не помню, чтобы кто-то из других детей спал, как я, на деревьях. Я была такая одна. Может, никто не принял меня к себе из-за того, что я была полукровкой — наполовину кхмеркой. А может, я сама так решила — жить одной. В Камбодже сирот полно, и явление это до ужаса обыденное.
Я редко бывала несчастна. Помню только, что очень часто мерзла. В особенно холодные или дождливые ночи старик Таман пускал меня в свой дом. Старик был из чамских кхмеров-мусульман, но жена у него была из пнонгов. Не помню, как ее звали, но она казалась мне красивой: длинные черные волосы, завязанные в узел и заколотые бамбуковой палочкой, высокие скулы и шея в ожерелье из блестящего черного дерева и звериных зубов. Она относилась ко мне по-доброму. Иногда мыла мои длинные волосы, втирая в них золу особых трав, а потом смазывала свиным жиром и расчесывала пальцами, напевая. Жена Тамана носила черный с красным кусок ткани, замысловато перекрученный и обернутый вокруг талии. Некоторые женщины ходили с обнаженной грудью, но жена Тамана прикрывалась.
Таман, как и остальные мужчины, носил набедренную повязку, оставлявшую ягодицы открытыми. За спинами у мужчин висели луки, они украшали себя бусами, а в мочки ушей вставляли большие, цилиндрической формы кусочки дерева.
Дети чаще всего бегали нагишом. Мы играли или все вместе мастерили себе одежку из плотных глянцевых листьев, скрепляя их лианами. Жена Тамана чаще всего ткала, сидя на полу и вытянув ноги, к которым привязывала ткацкий станок.
Зубы у нее были подпилены, как лезвие ножа. У пнонгов девушки, когда становятся женщинами, подпиливают и чернят зубы, но я покинула деревню задолго до того, как подошло время совершить подобный обряд и мне.
Я все искала мать, мне хотелось, чтобы она обняла меня, чтобы целовала и гладила, как жена Тамана своих детей. Я чувствовала себя обделенной — матери были у всех, кроме меня. Мне не с кем было поделиться своими горестями, разве что с деревьями. Они понимающе слушали и едва заметно кивали. В этом мире они были моими единственными друзьями, они да еще луна. Когда приходилось совсем туго, я разговаривала с водопадами; я видела, что вода, которой я поверяла свои тайны, не могла повернуть вспять и предать меня. Даже сейчас, бывает, говорю с деревьями.
Пропитание я добывала сама. Бегала по лесу и ела, что находила: фрукты, дикие овощи, мед… В лесу было полно насекомых — кузнечиков, муравьев… Особенно мне нравились муравьи. Я и сейчас запросто могу найти фрукты и ягоды, знаю, что можно пойти за пчелой — она приведет к меду. И до сих пор помню, что в лесу нужно обязательно смотреть под ноги, где встречаются ядовитые змеи.
Если удавалось поймать какого-нибудь зверька, я относила его жене Тамана. Она готовила мясо под слоем золы — зола сама по себе солоновата. Иногда жена Тамана вялила небольшие кусочки мяса в буйволиных лепешках, смешивала их с горькими травами, рисом и готовила на огне. Когда спустя двадцать пять лет я снова оказалась в деревне, то вновь попробовала это блюдо и до того наелась, что мне стало нехорошо.
Земля в горах мало годилась для выращивания риса, поэтому трудились все вместе, сообща. Чтобы освободить землю под посевы, приходилось выжигать участок леса. Через несколько лет, когда земля истощалась, двигались дальше в поисках пригодной земли. Переходы совершали длительные, особенно долгими они казались мне, маленькому ребенку, — иной раз мы шли несколько дней. У нас не было ни повозок, ни домашнего скота, как у кхмеров, обрабатывавших свои заливные рисовые поля на буйволах, так что все свои пожитки приходилось нести на себе.
Когда урожай был собран, мы приносили лесным духам жертву — буйвола. Жители нескольких деревень собирались вокруг костра — праздновать. Все танцевали под удары гонгов. Устраивались нескончаемые пиршества, на которых выпивалось много рисового вина. Помню, глиняные кувшины казались мне прямо-таки огромными, с меня ростом. Мы пили прямо из кувшинов, по очереди, потягивая вино через бамбуковую соломинку. Пить его разрешали даже детям. Пнонги вообще очень любили детей и всегда были с ними добры — не то что кхмеры.
Жили мы в такой глуши, что вряд ли к нам когда- либо добирался врач или медсестра. А уж школ точно не было. Мне ни разу не встретился ни буддийский монах, ни христианский проповедник. Мое детство пришлось на разгул режима «красных кхмеров», но я не помню, чтобы у нас появился хотя бы один их солдат.
«Красные кхмеры» провозгласили горные народности вроде пнонгов «основным населением страны». Нас ставили в пример, потому что мы не имели никаких западных привычек и жили коллективно. Это, а еще горы и холмы, и уберегло нас от страданий, захлестнувших остальную Камбоджу в те времена, когда я была еще маленькой.
Пол Пот по всей стране упразднил деньги, школьные дипломы, машины, очки, книги и все остальное, имевшее отношение к современной жизни. Но вряд ли именно поэтому пнонги не пользовались деньгами. Денег у них попросту не было. Никогда. Если взрослым надо было что-то, а ни вырастить это, ни поймать в лесу не представлялось возможным, они прибегали к натуральному обмену. Скажем, если нам нужна была капуста, мы шли к соседу который ее выращивал, и тот давал ее нам. Он, в свою очередь, всегда мог попросить у нас то, чего не было у него. Теперь все по-другому — в выходные или праздники горожане из столицы приезжают на своих внедорожниках, и карманы их набиты денежными купюрами.
Глава 2. Деревня
Когда нас наконец высадили из грузовика, мы пересели в какую-то военную машину с солдатами. Потом перебрались в телегу, запряженную лошадьми. Так — где пешком, где на попутном транспорте — мы двигались к какой-то неведомой мне цели. И повсюду рядом были люди — толпы людей. Перемены, произошедшие в стране, затронули почти всех камбоджийцев, все снова оказались в пути. В 1979-м, после четырех лет, в течение которых «красные кхмеры» атаковали границы, Камбоджу захватил коммунистический Вьетнам. Одержав над «красными кхмерами» победу, вьетнамцы учредили новое правительство; отовсюду начали возвращаться в родные деревни голодные и запуганные люди. Прошел уже почти год, а страна еще пребывала в движении.
Но тогда я, конечно, ничего этого не знала, только удивлена и ошарашена была таким количеством идущих куда-то людей. Люди, дороги, мотоциклы. И шум. Я видела красивых людей с бледной кожей и в затейливых одеждах. На рынках продавались вилки, фляги, шнурки, ботинки, спички, сигареты, лекарства, косметика, радиоприемники, ружья — ничего из этого я раньше никогда не видела. Повсюду блестел металл, пестрели краски.
Мы продвигались на юго-восток, через границу, во Вьетнам, хотя само слово «Вьетнам» или даже «Камбоджа» для меня тогда ничего еще не значило. Дедушка перевозил из леса сандаловую древесину какому-то торговцу в Далате — высокогорной области южного Вьетнама. Я помогала ему. После Далата мы поехали на юг, в сторону Сайгона, а затем кружным путем обратно.
Однажды на глаза мне попалась группа вьетнамских девочек — в своих длинных белых развевающихся платьях и легких брюках они походили на стайку белых птиц. Я смотрела как зачарованная. Это, судя по всему, были школьницы, но я понятия не имела, что такое школа, даже не думала, что сама когда-нибудь пойду учиться. Этих девочек я воспринимала скорее как ангелов.
Помню, где бы я ни оказалась, с ужасом наблюдала людей, орущих друг на друга. И везде, а в особенности во Вьетнаме, ко мне относились с презрением, видели во мне темнокожую замарашку, у которой и ума-то никакого — так, пенек с глазами. Меня пихали, на меня кричали, оскорбляли…
Я ничего не понимала, но ни о чем не спрашивала. Все было такое чужое, такое опасное. Когда дедушка купил у вьетнамцев суп, я попыталась есть длинные и скользкие нити лапши руками, хотя суп был ужасно горячим.
Мы двинулись в обратном направлении, на север, к реке Меконг. Мои глаза скользили по незнакомому пейзажу, не вызывая никаких эмоций, — ничто не напоминало мне родных картин сельской Камбоджи с бескрайними, засаженными рисом низменностями. Вокруг меня была пустота — такая же, как и в душе. Я оказалась посреди этих враждебных равнин, но не теряла духа, потому что у меня была цель — найти родителей. Однако уверенности в том, что мне удастся это сделать, у меня поубавилось.
Глава 3. «Это твой муж»
Старшая дочь Мам Кхона, Соеченда, должна была получить диплом об окончании школы, в Британии это назвали бы аттестатом о среднем образовании. Для нашей деревни — настоящее событие. Соеченде исполнилось семнадцать, мне же — четырнадцать, я все еще училась в начальных классах. Вся семья очень волновалась — ведь если Соеченда сдаст экзамены, она может продолжить учебу, что для деревенской девушки совсем уж редкость.
Экзамен был государственным и проходил в Кампонгтяме, центральном городе провинции, в трех часах езды на велосипеде от нашей деревни. Решено было, что мы отправимся туда с мамой, а по дороге переночуем у одной из маминых теток.
Поздно вечером, уже в доме тетки, Сопханна разбудила меня и сказала, чтобы я послушала, о чем говорят на первом этаже тетка и наша мама. Речь шла о том, как повезло маме с мужем, хорошим человеком. Оказывается, в юности мачеха отвезла маму в другой город, где без ведома отца продала в публичный дом. Маме многое пришлось перенести. Наш отец был бедным юношей, но он полюбил маму и, когда выучился на учителя, разыскал ее в борделе и выкупил.
Случилось это задолго до «красных кхмеров», в те далекие времена, когда отец и мать были совсем юными. Думаю, где-то в 1950-х. Эти откровения просто ошеломили нас с Сопханной, мы даже плакали. Мама никогда не рассказывала о своем прошлом. Она не могла, да и сейчас не может вспоминать об этом. Мы так до сих пор и не говорили с ней о том, как она жила в то время.
Видимо, в Камбодже всегда существовала такая практика — продавать женщин в публичные дома. Допустим, влезал человек в долги — а случалось такое запросто, ведь ссужали деньги под десять, а то и больше процентов в месяц. Дочь становилась своего рода предметом залога. Работая в публичном доме, с которым у заимодавца был договор, она тем самым выплачивала долг. Конечно же. из заработанного вычитались расходы на еду, одежду, лекарства и косметику, а родители тем временем могли задолжать еще больше.
Случалось и так, что родители сами, без посредников продавали дочерей в публичные дома. Вроде как передавали права на свою собственность. За двенадцатилетнюю девочку семье могли дать от пятидесяти до ста долларов, а то и больше, если родители отличались практичностью, а у их девочки была особенно светлая кожа. Публичный дом в свою очередь имел право продать ее. Семья велела дочери делать то, что ей скажут, и дочь повиновалась. А потом кто-нибудь из семьи раз в месяц являлся в бордель за деньгами. Считается, что дочери в долгу перед родителями и обязаны их содержать.
Знаю, такое с трудом укладывается в голове. Но после стольких лет могу сказать с уверенностью: для многих родителей подобное обращение с детьми никак не связано с родительскими чувствами. Дети для них все равно что ходячие деньги, товар, домашняя скотина.
Глава 4. Тетушка Ноп
Под большим городом имелась в виду столица. В те годы Пномпень нисколько не напоминал процветающий город, жизнь в котором бьет ключом. Далеко не везде еще провели электричество. Бродяг на улице было гораздо меньше. Здания выглядели серыми и убогими, стекол в окнах не было; дороги представляли собой мешанину из мусора, камней и грязи. Прошло десять лет после того, как «красные кхмеры» опустошили город, выслав всех горожан в исправительно-трудовые лагеря, а дороги и прочие коммуникации так и не были приведены в порядок.
Меня совершенно поразил шум, а еще улицы и множество домов. Я никогда не видела такого богатства и таких толп. Страной все еще управляли коммунисты, но уже появились ночные клубы с местной музыкой, бары и много-много гуляющих вечерами людей.
Я увидела огромные рынки, на которых что только ни продавалось: рисоварки и автомобильные запчасти, целые развалы еды, среди которых были овощи и фрукты, каких я в жизни не видела, а уж рыба лежала бесконечными рядами — насколько хватало глаз. Повсюду было видимо-невидимо мотоциклов — я даже не представляла, что столько вообще бывает, — а еще выкрашенных в черный цвет велосипедов советского производства, новеньких, блестящих.
В столице на велосипедах ездили даже девушки. Некоторые люди выглядели настоящими небожителями.
Но я не верила, что наш с дедушкой визит в город связан с чем-то хорошим. Я знала — от этого человека ничего хорошего ждать не приходится.
Приехали мы уже в сумерках. Тетушка Hoп жила в маленькой грязной квартирке в доме на старой и узкой улочке возле Центрального рынка. В полумраке — электричества в доме не было — мы поднялись по ступенькам: квартира находилась на втором этаже. Тетушка приоткрыла дверь и без стеснения оглядела меня с ног до головы.
Думаю, тетушке было тридцать пять. Она происходила из чамов и была мусульманкой, как дедушка, но одевалась на западный манер, а стриженые волосы укладывала волнами. У нее было полное лицо, а косметики явно чересчур — пятна румян и брови, нарисованные высоко на лбу. Мне она показалась страхолюдиной — прямо демон или злой дух. Лицо тетушки ничего не выражало; я ни разу не видела, чтобы она улыбалась.
Пока они с дедушкой говорили, мне велели помыться. Я зашла в уборную, где царила кромешная тьма. Днем в уборной становилась видна жуткая грязь, в темноте же казалось, что ты заперт, как в гробу. Потом мне часто приходилось мыться в этой комнатенке.
В тот вечер дедушка и тетушка Hoп посмотрели на меня и еще о чем-то переговорили. Мне же велели пойти в спальню, где сидела еще одна девушка, чуть старше меня — лет семнадцати или восемнадцати. У нее были миндалевидные, как у китаянки, глаза, но темная кожа. Она не заговорила со мной, и я тоже промолчала.
Затем дедушка ушел. Я видела, как тетушка Hoп перед уходом дала ему деньги. Мне он сказал: «Делай, что велит тебе тетушка. Я еще вернусь».
Тетушка Hoп делила жилье с женщиной того же возраста, у которой была дочь — та самая девушка, сидевшая в спальне на кровати. Девушку звали Мом. После ухода дедушки женщины велели мне сидеть тихо, а Мом тем временем накрашивала меня; потом женщины дали мне платье и туфли и сказали, чтобы я шла с ними.
Мы вышли из квартиры и спустились по лестнице. Было уже довольно темно, и я споткнулась о валявшийся на дороге мусор. Меня провели по длинному грязному и темному коридору между двумя магазинами, выходившими фасадами на улицу. Коридор вел на задний дворик, откуда лабиринтом расходились другие переулки. Мы подошли к дверному проему и стали взбираться по разбитой лестнице без перил.
На первом этаже находилось что-то вроде жилого помещения. Оно никак не отделялось от лестничного колодца — голый бетонный пол, на котором составлены кровати. Можно было разглядеть и закопченную плиту. Кроватей было много, они представляли собой тюфяки, сплетенные из травы и брошенные на подгнившие доски. В помещении было грязно.
Я пишу об этом, превозмогая себя, только потому, что делаю это в последний раз. Мне больше не хочется вспоминать тот кошмар никогда.
Хозяйку звали тетушка Пэувэ. Она была маленькой, довольно упитанной женщиной с родинкой на нижней губе и волосами, закрученными в узел. Приходившие в ее дом мужчины были клиентами ее заведения.
Глава 5. Тетушка Пэувэ
Я стала выполнять вместо тетушки Пэувэ работу по дому. Мне просто необходимо было вычистить то место, где я жила, а готовкой, уборкой да присмотром за детьми я купила себе покой. Тетушка Пэувэ поняла, что дух мой сломлен. Она стала обращаться со мной гораздо мягче, даже дружелюбно. Убедившись в моей честности, а также любви к чистоте, она стала оставлять меня дома одну — понимала, что стеречь меня уже не надо. Через некоторое время начала даже посылать в город с разными поручениями. Тетушка не сомневалась, что я вернусь.
Я помню, что делала тогда, помню, что сделали со мной, но вот своих чувств не помню и не понимаю. Почему я поступала так, а не иначе? Да потому, что просто-напросто сдалась.
Во всякое время в доме тетушки Пэувэ было не меньше десяти-двенадцати девушек. Постоянно появлялись новенькие, чей дух ломали, как и мой. Девушка редко покидала дом — обычно это происходило по особому соглашению с клиентом. Чаще же всего девушка однажды не возвращалась. Почему, мы так никогда и не узнавали. Возможно, убегала. А может, ее продавали.
На моей памяти убили троих. Первой стала молоденькая девчонка, Срей; однажды вечером она и девушка постарше, Чхетхави, пошли с клиентом.
Чхетхави была высокой и хорошенькой. Раньше она работала учительницей, но муж с мачехой сдали ее в публичный дом.
Утром, незадолго до рассвета, Чхетхави прибежала к нам. Она рассказала, что ей удалось убежать, а вот Срей застрелили. Тетушка Пэувэ распорядилась, чтобы никто из нас не выходил на улицу и не болтал об этом, а сама позвала охранников — они во всем должны были разобраться. Но в тот же день я побывала на месте убийства. Все произошло в таком же переулке, что и наш, всего-навсего через улицу; я поднялась по лестнице и увидела пустую комнату, где едва помещалась кровать, двери не было, а саму комнату от лестничной площадки отделяла только занавеска. Таких комнат в Пномпене полным-полно. Тело Срей уже унесли, но кровь на полу еще оставалась.
О клиенте мы только и узнали, что он был пьян и зол, ничего больше. Может, Ли заставил его выплатить компенсацию за Срей.
Второй стала Сри Роат, моя сверстница, которую привели через полгода после меня. Она была настоящей красавицей с белой кожей, мужчины всегда выбирали ее. Я не знала, кто продал Сри Роат тетушке Пэувэ: если девушка не хотела разговаривать, я не лезла ей в душу. Я и сама окружила себя стеной молчания, подавила все чувства. Мы, девушки, понимали — лучше совсем не думать о том, что происходит, лучше забыть о прошлом. Надо стойко переносить каждый новый день и надеяться, что удастся избежать слишком жестоких людей. Думать о чем-то еще не имело смысла.
Но Сри очень хотела выбраться из борделя. Она решила, что один из клиентов, часто спрашивавший ее, действительно к ней неравнодушен. И попросила его помочь устроить побег. Сри не знала, что клиент приходился другом мужу тетушки Пэувэ.
Когда Ли узнал о планах Сри, он поднялся к нам в комнату и связал девушку. Мы спали — было около десяти утра. Он связал ей руки, приставил к виску пистолет и выстрелил. Все закричали; я молча наблюдала за мужем хозяйки. Когда он прострелил Сри голову, она опрокинулась — голова с наполовину снесенным черепом свисала с кровати. Ли снова выстрелил в девушку, раза два или три — просто так. Потом они с охранниками запихнули тело в мешок из-под риса и унесли.
Третья смерть случилась много позднее. Шел 1988 год. Однажды поздно вечером к нам явился полицейский. Он не был постоянным клиентом, да к тому же и время было позднее — два часа ночи. Девушка — не помню, как ее звали — не хотела идти с ним, ей нездоровилось. Клиент был пьян. Нас разбудили крики: «Эй, вы все, смотрите! То же самое случится и с вами, если не будете повиноваться!» Мы вздрогнули от оглушительного выстрела, а бедная девушка упала замертво.
Тетушка Пэувэ ничего не сказала. Все испугались, ведь клиент оказался полицейским. Однако в округе боялись и мужа тетушки, Ли — у того хранился огромный запас оружия, к тому же он был известен своим вспыльчивым нравом. Но даже Ли оставил убийство безнаказанным. Полицейский ушел, а охранники засунули убитую в мешок из-под риса — совсем как Срей. Мы были мусором при жизни и тем же мусором оставались после смерти.
Может, они выкинули мешок на городскую свалку.
Глава 6. Иностранцы
Порой меня охватывала настоящая злость. Может, во мне говорила кровь пнонгов — вдруг я не выдерживала и восставала. В первый раз это случилось, когда я дала убежать двум девушкам и меня жестоко наказали. Во второй раз дело было уже в самом конце моего пребывания у тетушки Пэувэ. Тогда я выстрелила в клиента.
Был 1989 год. В этот период белых в Пномпене стало очень много. В 1988–1989 годах, после ухода из страны вьетнамских войск, а с ними русских и немцев, вместо них приехали французы, итальянцы и англичане. В Париже велись переговоры о мире, поэтому вновь прибывшие были большей частью из гуманитарных организаций вроде Красного Креста. И вот в тот вечер, когда я стреляла в клиента, на улицах было полно подвыпивших людей, которые кричали и смеялись. Они отмечали какой-то общий праздник — кажется, Новый год.
Тот клиент всегда выбирал меня и Мом. Когда он в очередной раз заявлялся к тетушке Пэувэ, мы пытались улизнуть, но он всегда показывал на нас, хотя иногда мы шли в сопровождении других девушек. Он всегда приводил нас в комнату, где было человек десять-пятнадцать и все пьяные. Однажды они накачали нас наркотиками. Дали что-то выпить, а очнулись мы уже все в синяках. Клиент вечно жаловался, а нам потом доставалось. Да он и сам любил пустить в ход кулаки — здоровенный такой, сущий зверь.
К тому времени Мом снова вернулась к тетушке Пэувэ — ее дружок Роен был в отъезде, а у матери закончились деньги. В тот вечер клиент снова выбрал меня и Мом. Он отвез нас аж в Кен Квай, деревню за пределами Пномпеня, может, это были его родные места. От него разило спиртным, а время было позднее; нам показалось, что на этот раз дружков своих он не пригласил. Клиент отвел нас в комнату над баром, а сам продолжал пить.
Было уже очень поздно. Он пил несколько часов, а потом начал орать и стрелять в Мом. Стрелял он не беспорядочно: сидя на стуле, метил куда-нибудь рядом с Мом, пугая ее, — совсем как, бывало, мой муж. Это занятие его очень забавляло. Потом он вышел в уборную, оставив оружие на столе. Я взяла пистолет и пошла за ним. Увидев меня, клиент испугался: «Не надо, не делай этого, кхмао!» — но я выстрелила.
Пуля попала ему в ногу. Он завопил, но никто его не услышал — на улице было слишком шумно. Я в самом деле хотела убить этого человека, но подумала о его жене — ведь у него наверняка была жена, а может, и дочери. Мы завязали ему рот и оставили, а сами убежали. Он здорово струхнул, да и мы тоже. Мы бежали от того места как можно дальше, а на рассвете нашли таксиста, который на мотоцикле отвез нас обратно в бордель.
Потом тот клиент все же пришел к тетушке Пэувэ с жалобой, но не сразу — может, боялся, а может, отлеживался в больнице. Однако к тому времени я уже нашла себе надежного защитника — Дитриха.
Глава 7. Французское посольство
Когда я вернулась в Пномпень и зашла к Гийому, меня уже дожидался один человек, из местных. Он был камбоджийцем и ухаживал за домом, в котором жил Пьер; оказалось, Пьер повсюду меня разыскивает. Потом я узнала, что Пьер даже сказал одному своему другу, что познакомился с женщиной, на которой собирается жениться, что она самая красивая и что он обязательно найдет меня. Он по мне с ума сходил.
Когда я пришла к Пьеру, он предложил мне переехать к нему, в большой деревянный дом, где жили и другие иностранцы, работавшие на гуманитарную организацию. Мне было как-то не по себе. Пьер не мог похвастать богатством, да и вид у него был потрепанный — совсем не тот мужчина, о каком я мечтала. Он не походил на Хендрика, американца из Сингапура, однажды запросто подарившего мне сто долларов на одежду. Но Пьер говорил по-кхмерски, а это для меня было важно. Он не воротил нос от местной кухни и вообще отличался от других иностранцев.
Я решила поговорить с Гийомом. Он посоветовал мне найти другого спутника жизни. Сказал, что Пьера недолюбливают, что он заносчив и хвастлив, так что лучше не торопиться. Хорошенькая рекомендация, ничего не скажешь. Однако мне нравилось, что Пьер представлял собой личность. И все же я решила последовать совету Гийома.
Когда мы оставались наедине, Пьер часто говорил, что не хочет принуждать меня. Для него было важно знать, хочу ли я близости и что при этом испытываю. Но в моем представлении близость всегда была связана с насилием. Я не могла вычеркнуть прошлое. Мне казалось невозможным вернуться к нормальной жизни. Я даже не знала, как жить если не счастливо, то хотя бы спокойно. Пьер был добр ко мне, однако ночи вдвоем с ним давались мне нелегко.
Как-то раз Пьер взял отпуск и уехал с друзьями во Вьетнам. Я знала, что друзья его были не слишком высокого мнения обо мне. Они считали меня недостойной, девицей, подобранной с улицы. И вот в отсутствие Пьера я случайно встретила знакомого, племянника моей приемной матери. Парень выбился в люди — работал в министерстве. Он поинтересовался, что я делаю в Пномпене.
Я сказала ему, что учусь, и это было правдой — я все еще ходила на занятия в культурный центр. Племянник предложил пообедать вместе. Когда мы выходили из ресторана, я заметила одного из друзей Пьера — тот уставился на меня. Я разозлилась и в ответ сделала то же самое.
Пьер вернулся раньше. Когда я пришла домой, на полу лежала гора моих вещей. Пьер меня выгонял. Он сказал, что я так и осталась шлюхой и что лгала ему, когда говорила, будто хочу покончить с этим занятием. Он обвинил меня в том, что пока был в отъезде, я встречалась с мужчинами.
Но это было не так. С тех пор как я познакомилась с Пьером, у меня никого не было. И хотя я все еще раздумывала, остаться мне с Пьером или нет, я была признательна ему за то уважение, которое он проявил ко мне.
Почему-то женщину, торгующую своим телом, всегда подозревают в нечестности. Ее считают лгуньей и воровкой. Если бы Пьер устал от меня, я бы ушла, я бы согласилась с его решением. Но меня возмутило то, что он пошел на поводу у других и счел меня всего-навсего шлюхой, которая ворует и лжет, — типичной дикаркой из пнонгов. Я же хотела, чтобы он увидел, какой я стремлюсь стать: честной и порядочной.
Я заплакала. Я не хотела уходить. И сказала Пьеру, что оставалась с ним вовсе не из какого-то там расчета. И не спала с ним за деньги. Сказала, что я не проститутка. Что когда торговала собой, делала это не по своей воле, и не следует обвинять меня в том, чего не было. Я попросила Пьера не торопиться и позволить мне доказать, что я не лгу.
Пока я убеждала Пьера, мне вдруг стало ясно — я этого действительно очень хочу. Пьер не отличался опрятностью и порой вел себя странно, да и часто злился, однако он не был похож ни на кого. Он говорил на понятном мне языке, и мне показалось, он меня понимает.
Я поклялась себе, что если Пьер разрешит мне остаться, я докажу, что не имею с проституткой ничего общего.
Глава 8. Франция
Во время полета я старалась не подавать виду, что мне страшно Я ведь гордая — не хотела, чтобы Пьер заметил. Прилетев в Малайзию, мы узнали, что рейс в Париж задерживается. Нас разместили в гостинице.
Чтобы выйти из аэропорта, нужно было спуститься по эскалатору. Я наотрез отказалась. Ни в какую не соглашалась ступить на металлическую змею, которая перекатывалась. Пьер рассердился и затащил меня на эскалатор силой. На улицах Куала-Лумпур я увидела здания выше любого лесного дерева. Пьер объяснил, что называются они небоскребами. Я же поняла, будто они в самом деле скребут небо. Все вокруг было такое необычное, современное, все меня поражало.
Наш номер находился на двадцать восьмом этаже. Мы вошли в лифт: когда двери закрылись, я почувствовала себя точно в гробу, мне стало жутко. Из окон номера люди внизу казались крошечными, не больше букашек, что тоже ужасало. Пьер зашел в ванную комнату и стал набирать в ванну воду, которая вдруг пошла пузырями. Он сказал, что мне понравится, что нужно войти в ванну, я же никак не соглашалась. Пузыри меня пугали, я никогда раньше не принимала ванну и не мылась в горячей воде.
Потом был еще один перелет. Теперь мне было уже не так страшно. Летели мы дольше, с остановкой в Дубае. В аэропорту я увидела, как живут мусульмане — не чамские, вроде моего дедушки, а настоящие, у которых женщины, как призраки, закутаны с ног до головы, да еще в такую плотную, черного цвета одежду. И это когда на улице жара! Мне их стало жаль.
Приземлившись во Франции, мы сразу же отправились к тете Пьера — ее звали Жанин, а жила она в пригороде. Когда мы вышли из аэропорта, майский воздух показался мне до того свежим, что я подумала: французы наверняка установили кондиционеры на открытом воздухе. Чтобы порадовать меня, тетя решила приготовить рис. В Камбодже рис варят час, а то и дольше: ставят котелок на угли, и вода выкипает себе потихоньку. Когда же я увидела, как тетя окунает маленькие целлофановые пакетики с рисом в кипящую воду, я решила, что женщина сошла с ума. В чем совершенно убедилась, когда через несколько минут тетя вынула пакетики из воды и добавила в рис сливочное масло. Рис получился жутким, полусырым; зерна раздулись, став гораздо больше наших, таких вкусных и ароматных. Из уважения к рису я съела все, что мне положили на тарелку. А вот ветчина и хлеб мне понравились; хлеб вообще был настоящим объедением.
Пьер уехал на пару дней. Сказал, что нужно повидаться с друзьями, и исчез. Тети Жанин целыми днями не было дома, так что я не знала, чем себя занять. Выйти на улицу, имея в запасе всего несколько французских слов, я не решалась. К тому же я боялась заблудиться. Мне пришла в голову мысль о том, что, возможно, подруги были правы — Пьер замышляет продать меня. Я сказала сама себе, что должна быть сильной и доказать Пьеру, что так просто он со мной не справится.
Наконец Пьер объявился и предложил мне съездить в Париж. Мы жили в дальнем пригороде. Чтобы доехать до столицы, надо было сесть на электричку, а потом еще и на метро. Все это было для меня в диковинку, я ничего не понимала и постоянно находилась в состоянии тревоги. В Камбодже поезда тащатся черепашьим шагом, французский же несся с головокружительной скоростью, и это по двум тоненьким шпалам — казалось, вот- вот соскочит с них. Метро вообще находилось под землей; шумный поезд мчался в темном туннеле со скоростью, которую трудно даже вообразить.
Я слышала, что Париж самый красивый город в мире, но мне так не показалось. Зелени в городе почти не было, казалось, город задыхается и умирает — так тесно друг к другу стояли дома. Нигде не было свободного местечка. Даже знаменитая Эйфелева башня не впечатлила меня, показавшись грудой металлолома, — ничего похожего на величественный Ангкор-Ват. Удивительнее всего было наблюдать, как люди обращаются со своими собаками. Собаки были везде, даже в ресторанах и квартирах. В Камбодже собак в дом не пускают — для нас они нечистые животные.
Еще я видела, как люди подходят к большой коробке в стене и достают оттуда деньги. «А, так вот как они это делают, — подумала я. — Значит, когда им нужны деньги, они просто-напросто подходят за ними к коробке. Здорово!» Я свернула бумажку и просунула ее в щель. Ничего не произошло. Пьер посмеялся надо мной и рассказал про банковские карточки и вообще про всю денежную систему. Признаться, это удивляет меня до сих пор.
Заходили мы и в магазины, где я видела множество туфель с острыми мысками. Вот это было потрясение! Моя одежда из Камбоджи выглядела жалкой и убогой.
Жан, дядя Пьера, пригласил нас к себе на ужин. Пьер предупредил меня, что семья дяди довольно консервативна. Поскольку сам Пьер куда-то отлучился, дядя заехал за мной на своей красивой машине: когда мы сели, он пристегнул ремень безопасности. Знаками дядя дал мне понять, чтобы я тоже пристегнулась, но я затрясла головой, не понимая. Наконец мне удалось вытянуть ремень, но дяде пришлось пристегнуть его самому — у меня никак не получалось. Когда мы приехали, дядя вышел из машины, захлопнув за собой дверцу. Я все еще сидела в машине: я не знала, как отстегнуть ремень. Дядя знаками объяснил мне, но я все равно не поняла, так что ему пришлось сделать это за меня.
Я чувствовала, что не только провалила экзамен, а и вообще не поняла, в чем он заключался, до того неправильно я себя вела. Блюда за ужином представляли для меня сплошную загадку. От некоторых прямо- таки тошнило. Например, рыба в кремовом соусе — я буквально заставляла себя проглатывать кусочки. Сыры жутко воняли. Меня поразило, что французы едят так много и, что еще более странно, одновременно поглощают самые разные блюда. Не верилось, что каждый день они так набивают себе животы.
Поразило, что одно блюдо сменялось другим и что в тарелках оставалось недоеденное. Жир срезали, кости не обгладывали дочиста, костный мозг не высасывали — все это, вместе с жирной рыбьей кожей, с легким сердцем выбрасывалось. Да этих объедков хватило бы, чтобы накормить несколько камбоджийских семей! В нашей деревне мясо ели раз-два в году, по особым праздникам. Мама покупала грамм двести свинины — и это на двадцать человек, — мелко рубила ее и добавляла в качестве приправы. Мы были благодарны за каждое зернышко риса, которое получали.
Вечер все длился и длился. Уже пробил час, два, а гости никак не могли наговориться. Пьер не все мне переводил. Я чувствовала себя какой-то потерянной, сказывался многочасовой перелет, хотелось есть… Мне улыбались, но общаться было не с кем. Для них я была иностранкой. маленькой дикаркой Пьера. Я сидела в дальнем конце стола и за весь вечер не проронила ни слова
Глава 9. Кратьэх
Пьер приступил к работе в Кратьэхе, старом колониальном городе, расположенном на изгибе Меконга, в двухстах милях к северо-востоку от Пномпеня. В ноябре 1994 года мы поселились в одной из комнат большого дома у реки, который снимали несколько человек, также работавших в организации «Врачи без границ», — так было дешевле. Мы вскладчину платили камбоджийке, которая готовила и убирала.
Пьер не хотел раскошеливаться на кухарку, считая, что это слишком дорого, да и вообще не желал проводить слишком много времени за болтовней с соотечественниками. Такой он был. Пьер: если мы оказывались в Камбодже, он предпочитал жить, как все местные. Мне это в нем нравилось. Он с большей охотой заходил в придорожные забегаловки и ел рис в обществе коллег-камбоджийцев, предпочитая его жареной курице в кругу врачей-французов.
В общежитии было совсем даже неплохо. Я помогала убираться кухарке, пожилой женщине лет пятидесяти по имени Веасна, которую все звали Ивонн — так иностранцам было легче. Поначалу женщина удивлялась. Она думала, что раз я французская кхмерка, значит, стою выше простых кхмеров. Я призналась ей, что на самом деле совсем не французская кхмерка, но о своем прошлом рассказывать не стала.
Вскоре после приезда я отправилась повидать приемных родителей. Мы встретились не слишком далеко, в Кампонгтяме, где жила Соеченда, — я хотела увидеться с ней и ее недавно родившимся ребенком. Соеченда сама выбрала себе мужа: после школы она поступила в педагогическое училище в Кампонгтяме, где и познакомилась с будущим мужем, тоже студентом. Я слышала, что оба теперь работают в министерстве сельского хозяйства.
Я ужаснулась тем условиям, в которых они жили. Соеченда с мужем, двумя детьми постарше и грудным младенцем ютились в какой-то развалюхе. Семья в самом деле бедствовала — недавно Соеченда ушла с работы, где им давно уже не платили зарплату, да ко всему прочему их еще обокрали.
Приехала Сопханна, и мне снова стало не по себе: она очень исхудала и постарела, в ней не осталось ничего от былой красоты и молодости. Сопханна привезла с собой пятилетнего сына и дочь Нинг, хорошенькую малышку трех с половиной лет.
Последними приехали родители на стареньком мотоцикле-такси — они совсем постарели. Выглядели мои родные грустными, а когда мы увидели друг друга, заплакали. На меня накатила волна любви и жалости к ним — в письмах они никогда не рассказывали о своих напастях, говорили, что все хорошо и не просили, как другие, выслать денег.
Я подумала: да, теперь-то я знаю, зачем вернулась, — позаботиться о семье. В свое время они протянули мне руку помощи, приняли к себе, стали моей семьей, и я решила, что никогда больше их не оставлю.
В доме Соеченды из съестного ничего не нашлось, даже риса, только несколько клубней батата, а ее сыновья были худющими. Я пошла и купила мешок риса в пятьдесят килограммов, а еще кур и рыбу для супа. Я накупила огромное количество еды, но вся она была тут же съедена — до такой степени мои родные оголодали.
В доме Соеченды я провела два дня. В первый день, когда мы стали укладываться, отец спросил, не удобнее ли мне будет жить в гостинице. Для меня это прозвучало как оскорбление. Пусть я и была во Франции, я осталась все той же. Я ответила отцу, что меня по-прежнему зовут Сомали, именем, которое он мне дал еще в детстве. Но, по правде говоря, меня поразила жуткая грязь в доме, я уже отвыкла мыться на улице, не снимая одежды, да и кровать казалась неудобной. Да, я изменилась.
Глава 10. Новые начинания
В Пномпене мы подыскали себе квартиру с двумя спальнями на окраине города, в районе Туол Кок. Дома здесь были дешевле, с садиками, однако белые в этих местах не селились. Я и не догадывалась, что мы переехали в самое логово публичных домов.
Однако вскоре это стало известно. Прямо по соседству с нашим домом находился бордель под вывеской «Разбитый кокос» — кокосом кхмеры называют «тайное место» женщины. У борделя стояла мибун и покрикивала на тех девушек, которые завлекали клиентов не особенно активно. Девушки были совсем молоденькие. Я не видела ни одной старше девятнадцати, многие выглядели на двенадцать.
Вдоль всей дороги, ведущей в город, почти на целую милю растянулись убогие лачуги. Стоявшие рядом девушки с размалеванными лицами манили к себе проходящих мимо мужчин. Девушки эти предназначались в основном для местных: водителей такси, строителей, рабочих… Но были и такие бордели у дороги, которые имели свою специализацию. Они торговали маленькими девочками. Местные называли улицу «Антенна» — по высокой башне, передающий радиосигнал. Однако среди иностранцев она стала известна как la rue des petites fleurs — «улица маленьких цветков».
Через несколько дней после переезда к нам зашел полицейский — зарегистрировать нас как новоприбывших. Поскольку Пьер был иностранцем, мы удостоились личного визита полицейского. Это был молодой парень, не старше девятнадцати, и выглядел каким-то голодным. Я угостила его рыбным супом, налила чаю, он же тем временем рассказал немного о себе. Звали его Сриенг.
Я была уже на шестом месяце, но все же не могла сидеть дома сложа руки. Не такой я человек. Я не могла делать вид, что не замечаю борделей вокруг, поэтому снова, как и в Кратьэхе, начала распространять презервативы и беседовать с девушками. Представляться сотрудником из международной гуманитарной организации «Врачи без границ» было не слишком удачной мыслью, но ничего лучшего мне в голову не пришло.
Приходилось заставлять себя идти в эти сырые, грязные подворотни за Центральным рынком, где я когда-то продавала себя. Я так никогда и не смогла дойти до борделя тетушки Пэувэ. Слишком живы были воспоминания — стоило только приблизиться к тем местам, как мне становилось плохо.
Не знаю, узнавали ли меня на улицах. Может, и нет. Я иначе одевалась, да и сама стала совсем другой. Кто разглядит в уверенной в себе, хорошо одетой женщине жалкое, щуплое привидение, которое звали «черной» или Айя? Никого из знакомых я разыскивать не стала.
Всего за два с половиной года Пномпень сильно изменился. Город стал гораздо богаче, людей на улицах заметно прибавилось. Повсюду развернулось строительство. Бордели тоже изменились. Раньше заведения прятались в переулках, теперь же публичные дома подобрались к самым улицам — стояли у всех на глазах. Они сделались официальными заведениями.
Хуже всего были бордели в Свей Пак. У нас с Пьером была машина — тарахтевшая бледно-голубая «Камри», купленная за восемьсот долларов, и я на машине ездила в тот пригород. За шесть миль от Пномпеня попадаешь в целый район борделей, сгрудившихся вдоль главной дороги. В Свей Пак были не только жалкие домишки, но и бетонные здания с высокой оградой и запирающимися воротами. Выглядели они, как крепости, ясно было, что их охраняли с оружием — любой человек, имевший в Пномпене собственный бизнес, имел оружие. В большинство этих домов доступ мне был закрыт. Многие девушки там содержались как пленницы, некоторые были совсем маленькими девочками — Свей Пак специализировался на вьетнамках, красивых и с бледной кожей, а еще на девственницах.
Были девочки не старше десяти лет, а то и моложе. Зачастую они были сильно избиты. Это было ужасно — раньше я такого не видела. Я начала ходить по борделям каждый день, отводя девушек в клинику организации «Врачи без границ» или в госпиталь, где работал Пьер.
Глава 11. Ангелы-хранители
Я продолжала ходить по борделям: распространяла презервативы и брошюры, водила девушек в клинику. Работа и сама но себе была полезной, однако в действительности служила своего рода прикрытием — общаясь с девушками, я призывала их покончить с рабской жизнью и прийти в наш приют.
Время от времени я проводила работу с полицией: сообщала им сведения о той или иной девушке, которую продали в публичный дом или поместили туда силой и теперь сторожат. Мы настаивали на том, чтобы полицейские совершили рейд в тот бордель, а мы, как представители AFESIP, сопровождали их в качестве наблюдателей. При этом полиция, освобождая девушку, обязана была передать ее под нашу опеку, а не сажать в тюремную камеру.
Однако зачастую добиться всего этого стоило невероятных усилий. Полицейские в Камбодже не похожи на своих западных коллег. Особенно это справедливо для того времени — многие офицеры были подкуплены сутенерами и за деньги предоставляли тем «защиту», иногда выбивали плату из строптивых клиентов. Некоторые полицейские даже владели борделями. И очень многие частенько посещали подобные заведения.
Бывало, нам попадался и порядочный полицейский вроде Сриенга, который сочувствовал детям, похищенным и ставшим жертвами жестокого обращения. Зачастую такие полицейские были новичками в системе, они не обладали реальной властью, однако если семья приходила в участок с жалобой о пропаже дочери, они давали мне знать. Тогда я надевала европейский костюм и шла подавать официальное заявление от имени AFESIP — точно так, как это сделал бы любой белый человек. Такое заявление трудно было проигнорировать, и в результате дело сдвигалось с мертвой точки.
К концу 1996 года в приюте жили уже двадцать женщин. Мы участвовали в десятке полицейских рейдов, спасая девушек, которых приковывали цепями и держали в ужасных условиях. Мне стало труднее проникать в бордели под видом социального работника — меня начали узнавать и не пускали на порог. В этот период я начала получать угрозы от врагов, но при этом в моей жизни появилось много новых друзей-единомышленников.
Одна из них Чхан Менг, она работала переводчиком. Это была очень умная женщина, способная сопереживать чужому горю. Она и сама многое в жизни перенесла. И хотя мы редко заговаривали на эту тему, я знала, что во время режима «красных кхмеров» она потеряла всю семью — мужа и детей. Я предложила Чхан Менг работать вместе со мной, ходить по публичным домам под видом социальных работников и собирать информацию. Чхан Менг и по сей день работает в AFESIP.
В 1997 году о моей работе узнал французский журналист Клод Сампэр. В Камбодже он снимал репортаж о минах для передачи «Envoy'e Sр'eсiаl»[8]. Надо сказать, что к тому времени я была невысокого мнения о журналистах. В свое время я возлагала на них очень большие надежды, верила, что честные публикации помогут всколыхнуть общественное мнение и побудить к действиям общественные и правительственные организации. Для этого я водила их по борделям и часами рассказывала о тысячах случаев беззакония и безнравственности. В итоге в их статьях были только будоражащие воображение детали интервью с проститутками и ни слова об AFESIP.
Однако Клод Сампэр оказался совсем не таким. Его команда сопровождала нас в рейдах по публичным домам. Когда Клод беседовал с девушками в нашем маленьком приюте, он плакал. Мне еще не доводилось видеть такое.
Одна из девушек, Сокха, рассказала Клоду, что ее родители при попытке уехать из Камбоджи попали в тайский лагерь беженцев, устроенный «красными кхмерами». Когда они вернулись в Камбоджу, то остались без средств к существованию и вынуждены были просить милостыню на улице. И вот однажды случилось ужасное: отчим изнасиловал девочку и продал в бордель. Ей было девять лет, из борделя мы вызволили ее уже в двенадцать. Бедняжке непросто давался этот разговор с мужчиной, однако Клод был очень тактичен.
Еще одну девушку, с которой беседовал Клод, звали Том Ди. Я подобрала ее у дороги неподалеку от королевского дворца — чумазую, с колтунами в волосах и страшно худую. Ее забрасывали камнями и уже разбили голову в кровь. У нее был СПИД и опухоли на коже. Она едва дышала. Поначалу я подумала, что это женщина лет тридцати пяти. Попросив водителя остановиться, я взяла ее на руки и отнесла в машину.
Водитель ужаснулся: «Вы что, с ума сошли? Она же грязная, у нее полно вшей, да еще и больная — не прикасайтесь к ней». Запах и впрямь был отвратительный. Но я привезла ее в приют и сама же обмыла. Оказалось, это семнадцатилетняя девушка. Я пыталась поместить Том Ди — так ее звали — в клинику, но там она натолкнулась на стену отчуждения, ее сторонились все.
Я отвезла девушку обратно в приют и переговорила с Пьером. Он, используя свои связи, достал лекарства для лечения туберкулеза и другие дорогостоящие препараты. Каждое утро я обмывала девушку и обрабатывала ее раны антисептиком. Том Ди рассказала, что занималась проституцией с девяти лет. Сутенеры заставляли ее работать на улице, а когда она тяжело заболела и не могла больше принимать клиентов, решили забросать камнями. У нас девушка восстановила силы, а вскоре уже было непонятно, как мы без нее обходились раньше. Она стала тем центром, вокруг которого концентрировалась вся жизнь маленького коллектива, и моей первой помощницей, на которую я всецело могла положиться. С ней было очень легко общаться, она успевала сделать за день огромное количество дел по хозяйству, к ней шли за словом поддержки и за советом…
Том Ди рассказала Клоду о своей мечте работать в AFESIP, помогать другим девушкам. Но она понимала, что не сможет осуществить ее — знала, что смертельно больна. Я об этом, разумеется, тоже знала и понимала, что жить девушке оставалось недолго, но старалась об этом не думать. Клода очень взволновала эта беседа.
Их журналистская группа сопровождала нас и во время полицейских рейдов. Мы вместе искали дочь женщины по фамилии Ли. Поскольку женщина была вьетнамкой, полиция не собиралась заниматься ее жалобой — кхмеры с неприязнью относятся к вьетнамцам. К тому же у женщины не было денег. Она рассказала нам, что ее дочь Лоан уехала из деревни работать официанткой, однако мать подозревает, что девушку продали в бордель. До нее дошли слухи, что дочь находится в Свей Пак.
Не надеясь на помощь полиции, женщина отправилась в Свей Пак сама. Она подходила ко всем с маленькой черно-белой фотографией четырнадцатилетней дочери. Наконец один парень показал ей на бордель. Женщина постучалась, но мибун и на порог ее не пустила.
После этого вьетнамка пришла к нам. Мы тут же направились в полицию за разрешением для группы Клода снимать в Свей Пак. Была суббота. Видимо, в этом была наша ошибка — полицейские не любят работать по выходным. К тому же у них оказалось достаточно времени, чтобы предупредить владельцев публичных домов. Когда же разрешение на съемку уже в понедельник вечером все-таки выдали, в борделе никого не оказалось. Ни девушек, ни сутенеров. Свей Пак оказался чист.
Мы с Пьером пригрозили, что соберем пресс-конфе- ренцию, на которой объявим о существующем преступном сговоре полиции с хозяевами борделей. Эта угроза подействовала: был арестован один из владельцев публичных домов, который рассказал, где находится Лоан. Но когда мы добрались до места, дом оказался заперт, — о нашем визите вновь успели предупредить.
Вдруг мы заметили нескольких девушек, которые выбегали из другого дома на этой же улице — многие бордели в Свей Пак соединялись подземными ходами. Среди девушек оказалась и Лоан. Ей было всего четырнадцать, и она пережила настоящее потрясение. Дочь и мать увидели друг друга и зарыдали. В полицейском участке мы выдвинули обвинения.
Перед уходом съемочная группа Клода передала дочери и матери немного денег, чтобы они смогли вернуться во Вьетнам.
Глава 12. Принц Астурийский и деревня Тхлок Чхрой
Когда нам стали перечислять средства от Евросоюза и ЮНИСЕФ, мы первым делом затеяли строительство нового приюта в десяти милях от Пномпеня. Прежний приют в деревянном домишке был уже слишком тесен — в одной комнате одновременно спали тридцать девушек. Мало кому их них было больше двадцати двух лет, а некоторые так и вообще были детьми. Все они имели разный уровень образования, а многие не умели ни читать, ни писать. К тому же все они получили травмы. По ночам им снились кошмары, они страдали от наркотической зависимости. Кто- то испытывал желание покончить с собой, кто-то погружался в депрессию, некоторые отказывались говорить или впадали в неудержимую ярость.
Строительство мы начали в 1998 году и решили назвать приют в честь Том Ди. На купленном неподалеку от деревни участке земли запланировано было возвести несколько зданий. Я хотела, чтобы у девушек было просторное помещение для занятий шитьем, а еще нужна была отдельная классная комната для уроков чтения, письма и арифметики. В проекте было обустройство нескольких больших спален на десять человек, с кроватями и тумбочками.
В июне 1998-го, как раз когда мы строили новый приют, я получила награду из рук самого принца Астуриского.
Как-то раз у нас дома раздался телефонный звонок. Трубку снял Пьер. Он сказал мне, что испанская монаршая семья решила вручить мне особую награду за заслуги в пропаганде гуманистических ценностей. Мы никогда не слышали о такой награде и понятия не имели о том, как о нас узнали. Оказалось, что награда эта очень почетная. А сумма прямо-таки невероятная — пять миллионов песет, или сорок тысяч долларов.
Мы полетели в Испанию, взяв с собой пятилетнюю Адану. Нинг пошла в школу. Пока мы были в отъезде, за ней присматривала моя приемная мать. Летели первым классом, что было для меня в новинку. Нас принимали как королей, хотя мы по-прежнему выглядели очень скромно. Уже в Овьедо, столице Астурии, я узнала, что вечером мне предстоит произнести речь. К этому я не была готова, к тому же перспектива выступать перед таким количеством умных, хорошо одетых людей пугала.
Мы вошли в огромный зал для приемов, где уже ждали телеоператоры и фотографы. Испанский принц представил всех присутствующих. Красивая африканка рядом со мной оказалась Грасой Машел, женой Нельсона Манделы и вообще женщиной самой по себе исключительной. За мной стояла Ригоберта Менчу, которая уже удостоилась Нобелевской премии за свою подвижническую деятельность в Гватемале, — даже я была наслышана о ней. Увидела я и Эмму Бонино — она приветствовала меня взмахом руки и ободряющей улыбкой. Собрались восемь женщин — всех их награждали за работу по защите прав женщин и детей.
Я так нервничала, что едва понимала речь принца, однако то, что смогла разобрать, очень меня тронуло. Принц говорил о равнодушии западных стран в отношении тех вопиющих жестокостей, что творятся в других частях света, где так ужасно обращаются с женщинами и детьми.
Подошла моя очередь, и я стала говорить о положении женщин в Камбодже. Я рассказывала о собственной жизни и о жизни тех девушек, которых заперли в борделях, сделав рабынями, о том, как плохо с ними обращаются, какое насилие они терпят. Говорила, что все знают о мягкой улыбке камбоджийских девушек, но улыбка эта не настоящая.
Я сама удивилась, что так долго выступала перед аудиторией. Когда же закончила, весь зал взорвался аплодисментами, а некоторые слушатели плакали. Выговорившись, я почувствовала себя опустошенной, однако было приятное ощущение выполненного долга и уверенность, что своим выступлением я чего-то добилась. Ко мне бросились тележурналисты с просьбой дать интервью, однако Граса Машел попросила их прийти позднее. Они с Эммой Бонино видели, как мне тяжело, и отвезли в отель. Адана плакала, пока меня не было, и я принялась успокаивать ее.
На следующий день проходила церемония вручения награды. Нас попросили прийти в национальных костюмах. Это было любопытное зрелище, и посмотреть на нас пришло большое количество людей. Астурийцы тоже надели свои нарядные одежды. Для меня мир как будто перевернулся. Там, у себя, я была просто женщиной, которая трудится ради несчастных девушек, томящихся в неволе. Здесь же со мной обращались как с королевой. Я чувствовала себя Золушкой, совсем как в той сказке из французской книжки Аданы.
Всемером мы взялись за руки и выступили вперед. Нам снова бешено аплодировали. Затем полагалось засвидетельствовать свое почтение принцу. Я боялась, что придется опуститься на колени и склонить голову — так поступают камбоджийцы, показывая, что они всего лишь пыль у ног его величества. Мне очень не хотелось стоять на коленях, ведь я уже не была рабыней, однако мои опасения были напрасными. Принц просто протянул мне руку для пожатия и поприветствовал по-французски. В Камбодже при обращении к королю пользуются особым языком, в котором полно архаичных форм и на котором за пределами дворца не говорят. Однако испанский принц оказался человеком дружелюбным, чуждым искусственным церемониям, за которыми невозможно разглядеть человека. Мне показалось, он проявил к моей работе неподдельный интерес.
Меня познакомили с его матерью, королевой Софией. Она замечательная женщина, твердость сочетается в ней с любящим сердцем. И она по-настоящему предана делу — помощи женщинам по всему миру. Переводчиком у нас была Эмма Бонино. Королева взяла на руки Адану и стала играть с ней. Было видно, что это хорошая, добрая женщина — мне она понравилась с первого взгляда.
Я была очарована непринужденностью и обаянием этого удивительного семейства. Они, монархи огромной страны, принимали меня как равную — вот что было для меня удивительно. Я говорила с ними от чистого сердца. Они знали о моей работе, о том, чем я занималась до этого, и все же не перестали уважать меня, девчонку из пнонгов, бывшую грязную проститутку.
Потом мы раздавали автографы, нас фотографировали и устроили в нашу честь роскошный банкет. Людей было очень много. Специально для этого случая я купила туфли на каблуках, и они натерли мне ноги до крови — я не привыкла к такой обуви. Так что я тайком сняла туфли и сунула в сумку. Остаток вечера я в каком-то полубессознательном состоянии пожимала всем руки, стоя босиком.
Глава 13. Благотворительная организация AFESIP
Наступил 2000 год — тяжелое время для нашей семьи. Именно тогда из европейского фонда перестали поступать средства для AFESIP, шедшие на просветительскую программу. А у меня случился выкидыш. Я очень переживала. Никак не могла себе простить, что была так неосторожна и не отдыхала, как советовали врачи. К тому же Сопханну бросил муж — ушел к другой женщине, прихватив сбережения семьи. Сопханна все так же работала у нас добровольным помощником, давала бесплатно уроки шитья. Помимо этого она трудилась в группе «Партнерство в целях развития Камбоджи» — преподавала шитье.
Наша организация, AFESIP, формировалась медленно, какими-то рывками — это не было планомерное развитие. Мы разрастались, когда необходимость в этом становилась очевидной. Образовались начальные классы, где девочки учились читать и писать по-кхмерски. Мы преподавали не только шитье, но и поварское искусство, ткачество и парикмахерское дело. Имея навыки в этих областях, девушки могли зарабатывать себе на жизнь. Каждой девушке мы начали преподавать основы ведения собственного дела — к примеру, учили бухгалтерии и управлению собственной лавкой. Что бы они в итоге ни выбрали, умение разбираться в собственных счетах оставалось важным.
Отец все чаще наведывался в наш центр. Он переехал в столицу, чтобы быть рядом с женой. Она все так же стряпала в приюте и приглядывала за всем; отец вызвался обучать девочек чтению и письму.
Было забавно слушать, как он преподавал им чбап cрей. После уроков отец собирал девочек в круг под тенистым деревом и рассказывал обо всем том хорошем, что было в своде правил: о необходимости молчания и недопустимости вмешательства в чужие дела. Однако при этом объяснял, что девочки должны уметь защитить себя. Мол. это закон допускает.
Отец никогда не говорил с девушками о проституции напрямую. Он внушал им: «То, что вы узнали благодаря своему опыту, ценится на вес золота. Взять, допустим, ваш дом — он может сгореть. Любая вещь может потеряться. А вот ваш опыт всегда с вами. Помните о нем и находите ему применение».
Глава 14. Жертвы
Со времени учреждения AFESIP количество публичных домов увеличилось, а обстановка в них стала еще более жестокой. Девушек теперь приковывают к канализационным трубам; мы находим их избитыми до полусмерти. Все чаще сутенеры сажают их на наркотики — чтобы не сбежали. В годы моей молодости нас запугивали змеями, могли надавать тумаков, однако сегодня в ход идут электрошок и пытки. У девушек остаются следы от побоев, которые не сравнить с теми ссадинам, которые были у меня.
Однажды к нам в пномпеньский приют прибыла девушка по имени Срей Мом. Я хотела как можно скорее отправить ее в больницу — от жутких ран девушка могла умереть, — но та умоляла оставить ее в приюте, боялась, что в больнице ее достанут сутенеры. Она умоляла: «Если умру, пусть это случится здесь».
Мы стали выхаживать больную сами. Когда девушка более-менее оправилась, расспросили ее. Оказалось, ей всего пятнадцать. Ее продали в бордель, где делами заправляет известный сутенер и где обслуживают клиентов из военной полиции. О сутенере ходила недобрая слава — он убил уже несколько девушек. Срей сидела взаперти четыре месяца. Ее непрерывно избивали, сажали на цепь, насиловали… Бордель, находившийся в районе Туол Кок, стоял на сваях над болотом, как и многие камбоджийские дома. Сливные отверстия туалетов в нем выходили прямо наружу, в воду.
Срей проделала в полу дыру, выбралась через нее, и, спрыгнув в воду, побрела среди нечистот. Она пришла в полицейский участок и обо всем рассказала. Полицейские записали ее показания слово в слово. А потом предложили подвезти до приюта на мотоцикле. Она с радостью согласилась, но полицейские отвезли ее обратно в бордель.
Сутенеры так избили Срей, что она думала, ей настал конец. Однако ей снова удалось убежать тем же способом — дыра в полу осталась незамеченной. Расспросив по дороге нескольких прохожих, девушка к утру добралась до приюта AFESIP, который находился неподалеку. Срей боялась выходить на улицу — она не сомневалась, что сутенеры с дружками из полиции уже прочесывают округу. Несчастная не доверяла даже работникам больницы, уверенная, что любой продаст ее всего за пару-тройку долларов.
Срей рассказала, как одну девушку в борделе постоянно держали на цепи. А другую, которая отказывалась принимать клиентов и пыталась сбежать, связали и подожгли. Срей не сомневалась, что и ее ожидала та же участь. А продала Срей в бордель собственная бабушка.
Некоторое время назад я встретилась с одной матерью, которая ходила в публичный дом за деньгами, заработанными дочерью, десятилетней девочкой. Когда я пристыдила женщину, та возмутилась:
— Это моя дочь! Я вынашивала ее девять месяцев, страдала во время родов. Что хочу, то с ней и сделаю. Она не ваша.
У меня тоже есть дочь, я тоже родила ее, — возразила я этой женщине. — И я так же, как и вы, мучилась во время родов. Но если бы мне нечем было кормить собственного ребенка, я бы скорее сама стала проституткой, но не пожелала бы такого своей дочери.
А что делать — меня муж бьет. Если в доме есть хоть какие-то деньги, он напивается, а потом избивает меня и насилует. И детей бьет. Вот моя дочь в борделе, и благодаря ей у нас есть немного денег. Может, она встретит мужчину, который возьмет ее в жены.
В другой раз мы говорили с мужчиной, который изнасиловал собственную дочь, маленькую девочку. Мы спросили, почему он это сделал.
Ее мать такая смазливая, что все кобели в деревне ее. Ну я и решил отомстить — дочь уродилась такая же красавица, вся в мать.
Но ведь это же и ваша дочь!
Э нет, она — материна. Мать родила ее. А для меня дочь никто. Не я вынашивал ее.
Вот такие страшные ответы мы получаем, когда спрашиваем…
Надо сказать, нередко семьи даже не знают, куда отправляются их дочери. Думаю, некоторые родители и в самом деле верят, что, продавая дочерей торговцам, мужчинам и женщинам, тем самым обеспечивают дочерям рабочие места в качестве домашней прислуги в больших городах. Однако большинство все же понимают, что девочек заставят заниматься проституцией. Чтобы не платить посредникам, родители отводят дочь в публичный дом сами. Они знают, что становятся частью разветвленной, опутавшей всю страну системы, с помощью которой девушек переправляют в Таиланд, Лаос, Сингапур и даже Канаду Но родители все равно идут на это. Они не думают ни о чем, кроме самих себя.
Заключение
Сейчас в детском центре, что в провинции Кам- понгтям, находится двенадцатилетняя девочка с глубокими круговыми шрамами на шее и предплечьях — дело рук пьяного клиента. Еще одна девочка, четырнадцати лет, сошла с ума. Мы нашли ее в подвале борделя прикованной. Первые месяцы она не говорила и не могла управлять своим телом. Девочка прожила у нас без малого год. Теперь она разговаривает и учится помогать на кухне. Девочка очень милая, такая очаровательная, точно маленький ребенок, вот только поступки ее не всегда осмысленны. Но она не всегда была такой — оказалось, девочка умеет читать и писать по-кхмерски. Мы до сих пор не знаем, кто она такая.
Иногда при мысли о том, через что довелось пройти этим детям, все во мне закипает. Беседуя с девочками, я вместе с ними переживаю их страдания. Мысли обо всем этом разъедают меня изнутри, доводя чуть ли не до сумасшествия.
Как люди становятся такими? Тридцать лет бомбардировок, геноцида, голода обанкротили страну морально. Кхмеры больше не знают, кто они такие, не осознают себя.
Во времена режима «красных кхмеров» люди отгораживались от любых чувств — чувства означали боль. Они научились не доверять соседям, семье, собственным детям… Чтобы не сойти с ума, каждый сжался до мельчайшей частички, именуемой «я». Режим свергли, но люди все так же хранили молчание — может, потому что сами были частью режима, может, из-за того, что это был единственный способ выжить.
«Красные кхмеры» уничтожили все, что имело для народа хоть какое-то значение. После падения режима люди уже ничем больше не интересовались, только деньгами. Видимо, так они надеялись обезопасить себя на случай очередной катастрофы. Хотя урок, если таковой вообще можно извлечь из полпотовского режима, свидетельствует о том, что от катастрофы нет никакой защиты.
Больше половины сегодняшнего населения Камбоджи родилось уже после падения режима, однако страна пребывает в состоянии хаоса. Люди руководствуются только одним правилом — каждый сам за себя. Облеченные властью далеко не всегда используют ее на общее благо. Когда я была юной, мы были беднее, но за обучение в школе тогда ничего не брали. Сегодня обучение платное, к тому же аттестат можно купить. Или получить просто так, угрожая учителю пистолетом. Само правосудие продается, а мафия срастается с властью: такой бизнес, как проституция, приносит пятьсот миллионов долларов в год — почти годовой бюджет страны.
Камбоджийцев всегда воспитывали в традиции послушания, они всегда были бедными. Из каждых восьми детей один умирает, не дожив до пяти лет. На улицах полно мусора и испражнений, над которыми летают мухи; все это превращается дождями в отвратительную жижу. Более трети населения живут менее чем на один доллар в день, а медицинские услуги при этом платные.
Власть сосредоточена в руках мужчин. Правда, не всегда — своим родителям они и слова не смеют поперек сказать. И перед теми, кто выше их по рангу, тоже молчат, а то и простираются ниц. Но дома опять берут верх, командуя своими родными и близкими. Если жены сопротивляются воле мужей, те их бьют.
Женщины же имеют право на одно: молчать до совершения насилия и молчать после. Еще маленькими нас учат брать пример с шелковичного дерева дам кор. Глухие и немые. По возможности еще и слепые. Поднимать руку на девочек в порядке вещей. Для очень многих они своего рода домашняя скотина. Дочери позаботятся о своих родителях, потому что это их долг. Ни на что другое они не годны.
Треть всех проституток в Пномпене — несовершеннолетние. Их продают, избивают, мучают в свое удовольствие. Мне кажется, не может быть ни объяснения, ни оправдания такому обращению, а также беспризорным детям, роющимся в мусорных кучах, нюхающим клей или украденным и вывезенным в Таиланд для обращения в современное рабство. Я не пытаюсь объяснить все это, нет. Просто стараюсь помочь — одной девочке, другой, третьей… Это уже большое дело.
Слова благодарности
Я хотела бы поблагодарить всех тех, кто трудился со мной бок о бок, кто не пожалел своего времени, душевных сил и энергии на помощь лично мне и нашей организации в целом. Я особенно признательна таким людям, как Арунрит, г-н Чхенг, Рос Сокха, Эмма Бонино, Эммануэль Колино, Рене Дорель, моя мать, которая многому меня научила, Пьер Фалавье, Эрнесто Карлос Херардо, Жак Милан, Марианна Пёрл. Я признательна персоналу отдела Госдепартамента США по борьбе с торговлей людьми. А также Роберту Дойчу.
Еще я хотела бы сказать спасибо тем, кто помог мне написать эту книгу: Алану Карьеру, моему французскому издателю, который для меня все равно что приемный дедушка; Рут Маршалл, которая вселила в меня уверенность в том, что я смогу подобрать верные слова; моему литературному агенту, Катрин Одап — она мне стала младшей сестрой, и Сюзанне Ли, чьим страстным порывом встать на защиту женщин я просто восхищаюсь.
Мои дорогие друзья Хун Кимлень, Сопхеа, Ом Иентиенг, Со Сопхал, его превосходительство Йу Сонлонг, Ватхани, Серипхан — благодарю вас за вашу любовь и поддержку.
Я признательна своей приемной семье, нашедшей для меня место в своих сердцах и научившей меня таким ценным качествам, как молчание, честность и трудолюбие. Без этого мне не удалось бы добиться того, чего я добилась.
Однако прежде всего хочу сказать спасибо трем своим детям — за то, что были терпеливы и научили меня любить.
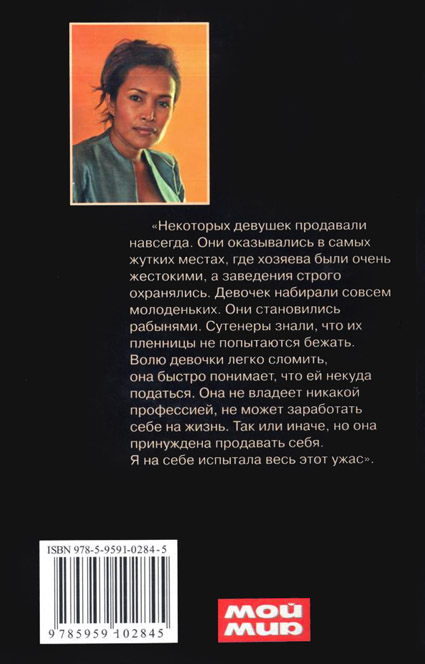






 Глава правительства Таиланда Пэтонгтарн (Пхетхонгтан) Чинават прибыла на Пхукет и открыла яхтенную выставку Thailand International Boat Show 2025 (TIBS 2025), которая в этом году проводится в гавани Phuket Yacht Haven Marina на севере острова.
Глава правительства Таиланда Пэтонгтарн (Пхетхонгтан) Чинават прибыла на Пхукет и открыла яхтенную выставку Thailand International Boat Show 2025 (TIBS 2025), которая в этом году проводится в гавани Phuket Yacht Haven Marina на севере острова.
 Губернатор Пхукета Сопхон Суваннарат дал старт празднованию Лой Кратонга по всему острову в этом году, возглавив официальную церемонию открытия мероприятия
Губернатор Пхукета Сопхон Суваннарат дал старт празднованию Лой Кратонга по всему острову в этом году, возглавив официальную церемонию открытия мероприятия
 На Пхукете на территории Blue Tree состоялись долгожданные забеги по полосе препятствий - "Phuket Spartan Trifecta Weekend & Hurricane Heat 12 HR".
На Пхукете на территории Blue Tree состоялись долгожданные забеги по полосе препятствий - "Phuket Spartan Trifecta Weekend & Hurricane Heat 12 HR".